Александр Акулиничев
Непреодолимый январь
Иосифа Бродского
Иосифа Бродского
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать», — сказал 22-летний Иосиф Бродский. Жизнь, как водится, выбрала за него: спустя десять лет после написания этих строк поэт в последний раз прошелся по острову, чтобы никогда больше не увидеть его вновь и умереть в Нью-Йорке.
Тема островов в связи со смертью последнего русского лауреата Нобелевской премии всплывает еще дважды. Сначала, в марте 1996-го, — мемориальная служба на Манхэттене, в самом символическом месте Америки, приютившей Иосифа Александровича на всю вторую половину жизни. Затем, в июне 1997-го — вторые похороны на острове Сан-Микеле в Венеции, где и сегодня можно увидеть простую могилу с высеченными двумя словами: именем и фамилией.
«No man is an island», «нет человека, который был бы как остров», — согласно этим словам своего любимого поэта Джона Донна Иосиф Бродский и прожил всю свою жизнь: сменяя тишину работы и сосредоточенных размышлений на бурные вечера и обстоятельные беседы. Бродский много и тесно общался с таким количеством людей, что вот уже двадцать лет всевозможные воспоминания друзей, приятелей и случайных знакомых всплывают в журналах и газетах на всех языках. Как приложение к завещанию, поэт разослал многим из них письма с просьбами не рассказывать о нем как о человеке — только как о творце; сроком он назначил 2020 год — и где-то есть еще, наверно, самый надежный друг, так и не рассказавший журналистам или биографам об общении с Бродским. Увы или ура, ненадежных оказалось больше.
Тема островов в связи со смертью последнего русского лауреата Нобелевской премии всплывает еще дважды. Сначала, в марте 1996-го, — мемориальная служба на Манхэттене, в самом символическом месте Америки, приютившей Иосифа Александровича на всю вторую половину жизни. Затем, в июне 1997-го — вторые похороны на острове Сан-Микеле в Венеции, где и сегодня можно увидеть простую могилу с высеченными двумя словами: именем и фамилией.
«No man is an island», «нет человека, который был бы как остров», — согласно этим словам своего любимого поэта Джона Донна Иосиф Бродский и прожил всю свою жизнь: сменяя тишину работы и сосредоточенных размышлений на бурные вечера и обстоятельные беседы. Бродский много и тесно общался с таким количеством людей, что вот уже двадцать лет всевозможные воспоминания друзей, приятелей и случайных знакомых всплывают в журналах и газетах на всех языках. Как приложение к завещанию, поэт разослал многим из них письма с просьбами не рассказывать о нем как о человеке — только как о творце; сроком он назначил 2020 год — и где-то есть еще, наверно, самый надежный друг, так и не рассказавший журналистам или биографам об общении с Бродским. Увы или ура, ненадежных оказалось больше.
«Мой Дантес»
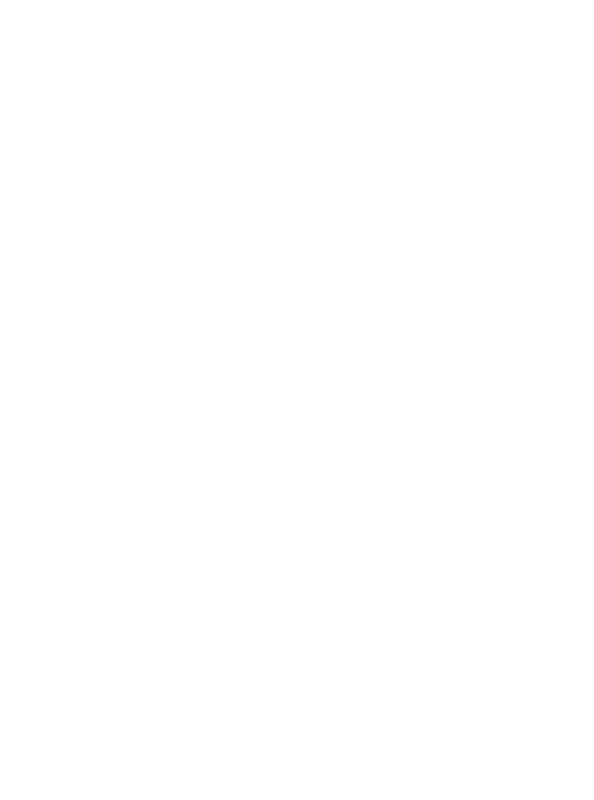
Вернись Иосиф Бродский в Россию и доживи до наших дней, ему было бы трудно попасть в телеэфир или на обложку журнала. Не только потому, что у нас мертвых (особенно — преждевременно) поэтов ценят больше, чем живых, но и потому, что он не расставался с сигаретами и на десять минут, даже во время телеинтервью. Сегодня ему бы этого просто не разрешили — а ко всякому «разрешению» он относился со всем возможным пренебрежением. «Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода», — звенят строки малоизвестной песенки Бродского: свою свободу жить, как считает нужным, он ставил превыше всего. Нельзя курить — не будет эфира, иного и допустить нельзя.
Литовский поэт Томас Венцлова вспоминает, как однажды в очередной раз посоветовал Иосифу Александровичу бросить курить. «Обезьяна взяла в руки камень и стала человеком, человек взял в руки сигарету и стал поэтом», — ответил Бродский, поясняя, что без курения не может написать и трех строчек за день — да и к тому же становится нервным. «Это полная ерунда, Иосиф, потому что Данте не курил — тогда еще не было табака», — парировал Венцлова. «Сильный аргумент, но я все равно буду курить», — поставил в этом разговоре точку нобелиат.
Литовский поэт Томас Венцлова вспоминает, как однажды в очередной раз посоветовал Иосифу Александровичу бросить курить. «Обезьяна взяла в руки камень и стала человеком, человек взял в руки сигарету и стал поэтом», — ответил Бродский, поясняя, что без курения не может написать и трех строчек за день — да и к тому же становится нервным. «Это полная ерунда, Иосиф, потому что Данте не курил — тогда еще не было табака», — парировал Венцлова. «Сильный аргумент, но я все равно буду курить», — поставил в этом разговоре точку нобелиат.
“
«Сигарета — мой Дантес», — пророчески написал он в одном шутливом стихотворении, в трех словах выразив и свою самую опасную слабость, и собственное место в русской поэзии.
Таких разговоров с разными людьми у него, судя по всему, было множество, как с друзьями, так и с лечащими врачами. Нравоучения и советы Бродского утомляли и удручали — потому с каждым разом он все неохотнее шел к очередному кардиологу. Походы эти, тем не менее, с 1980-х годов стали частыми и неизбежными, становясь стрессом не только из-за плохих новостей о сердце, но и из-за необходимости вновь обороняться от атак по поводу вредной привычки поэта.
«Сигарета — мой Дантес», — пророчески написал он в одном шутливом стихотворении, в трех словах выразив и свою самую опасную слабость, и собственное место в русской поэзии. Хотя бы в этом не боясь показаться банальным, Пушкина Бродский почитал важнейшей фигурой русской литературы и, становясь старше, перечитывал все чаще — хотя сам поначалу писал под влиянием англоязычных авторов вроде Уистена Одена или Томаса Стернза Элиота. Как и Пушкин за 150 лет до него, Бродский заметно обновил русский литературный язык, открыв его навстречу любым заимствованиям — от лексики до поэтических ритмов. Как и Александр Сергеевич, Иосиф Александрович, по сути, покончил с собой: первый пошел на напрасный конфликт, второй — не справился с застарелой привычкой. Три пачки сигарет в день были нормой для него, и ни один инфаркт так и не заставил Бродского бросить курение дольше, чем на месяц.
Как вспоминает Бенгт Янгфельдт (автор одной из лучших книг о Бродском «Язык есть бог»), пилить Иосифа по поводу курения было делом бесполезным — а то и вовсе вредным, учитывая, как поэт-сердечник от этого раздражался. «Закуривая, Бродский всегда следовал одному и тому же ритуалу: он откусывал фильтр и отшвыривал его указательным пальцем, у себя дома прямо в камин, иногда попадая, иногда нет. Почему он покупал сигареты с фильтром, не совсем ясно», — пишет Янгфельдт. «Я все равно буду» — слова, ставшие словно бы девизом поэта с того самого момента, как с ним в последний раз поступили вопреки его воле — выгнав из Советского Союза.
«Сигарета — мой Дантес», — пророчески написал он в одном шутливом стихотворении, в трех словах выразив и свою самую опасную слабость, и собственное место в русской поэзии. Хотя бы в этом не боясь показаться банальным, Пушкина Бродский почитал важнейшей фигурой русской литературы и, становясь старше, перечитывал все чаще — хотя сам поначалу писал под влиянием англоязычных авторов вроде Уистена Одена или Томаса Стернза Элиота. Как и Пушкин за 150 лет до него, Бродский заметно обновил русский литературный язык, открыв его навстречу любым заимствованиям — от лексики до поэтических ритмов. Как и Александр Сергеевич, Иосиф Александрович, по сути, покончил с собой: первый пошел на напрасный конфликт, второй — не справился с застарелой привычкой. Три пачки сигарет в день были нормой для него, и ни один инфаркт так и не заставил Бродского бросить курение дольше, чем на месяц.
Как вспоминает Бенгт Янгфельдт (автор одной из лучших книг о Бродском «Язык есть бог»), пилить Иосифа по поводу курения было делом бесполезным — а то и вовсе вредным, учитывая, как поэт-сердечник от этого раздражался. «Закуривая, Бродский всегда следовал одному и тому же ритуалу: он откусывал фильтр и отшвыривал его указательным пальцем, у себя дома прямо в камин, иногда попадая, иногда нет. Почему он покупал сигареты с фильтром, не совсем ясно», — пишет Янгфельдт. «Я все равно буду» — слова, ставшие словно бы девизом поэта с того самого момента, как с ним в последний раз поступили вопреки его воле — выгнав из Советского Союза.
Стресс убивает
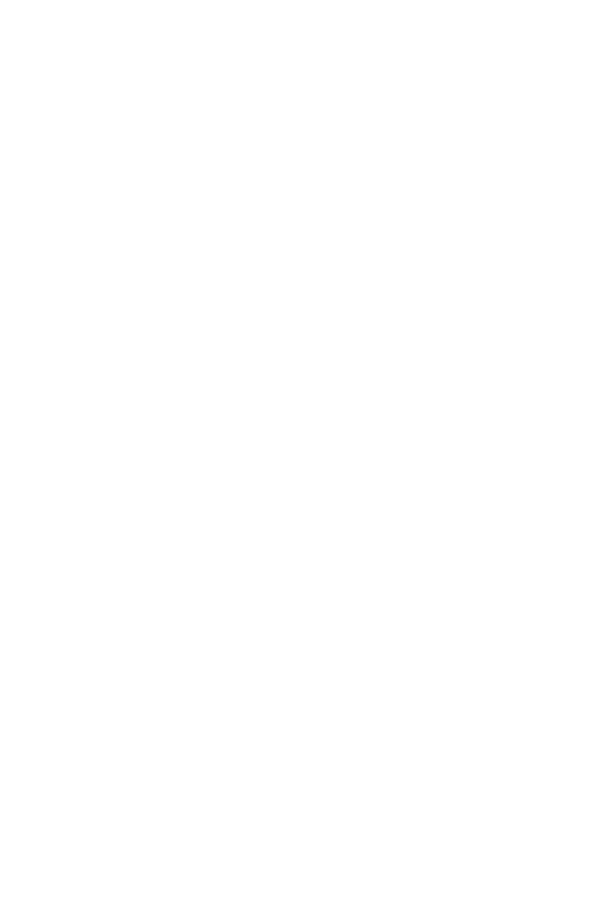
Последний кадр на Родине
Уезжая из СССР — от судебного решения до взлета прошло около месяца, — 32-летний Иосиф увозил в чемодане среди прочего две бутылки водки. Это был презент Уистену Одену, жившему в Австрии английскому поэту, чьи стихи он безмерно любил. Они встретились буквально через пару дней после выезда Бродского из страны — и едва ли пример Одена мог быть вдохновляющим: за день тот выпивал по полторы-две бутылки виски или других крепких напитков, ссылаясь на то, что без этого не может сочинять. Гениальный алкоголик помог гениальному курильщику войти в западные литературные круги — и умер год спустя.
В молодости Иосиф Бродский был сильным, спортивным парнем, и все его последующие проблемы со здоровьем — печальный пример того, как невнимание к себе и полная стрессов жизнь могут подкосить даже очень крепкий организм. Ставшее легендарным судебное разбирательство по обвинению в тунеядстве, ссылка в Архангельскую область, несколько нет тянувшийся любовный треугольник, в котором Бродский выглядел самым жалким и униженным — это были слишком серьезные испытания для тонко чувствующей натуры.
Говорят, первый сердечный приступ он пережил уже в 26 лет — как раз на волне очередного недорасставания с М. Б., которой посвящен сборник «Новые стансы к августе». Документально подтвержденный первый инфаркт случился с Бродским уже в США, в 1976-м, но боль в груди во время игры в футбол поэт помнил с самых юных лет. Можно сослаться на дурную наследственность: отец Александр Иванович тоже страдал от кардиологических проблем — но тем не менее дожил до 80 лет, в отличие от сына, скончавшегося в неполные 56. Боль от испытанной несправедливости и от вынужденного расставания с родиной, умноженная на два в поэтическом сознании, — причина куда более веская.
В молодости Иосиф Бродский был сильным, спортивным парнем, и все его последующие проблемы со здоровьем — печальный пример того, как невнимание к себе и полная стрессов жизнь могут подкосить даже очень крепкий организм. Ставшее легендарным судебное разбирательство по обвинению в тунеядстве, ссылка в Архангельскую область, несколько нет тянувшийся любовный треугольник, в котором Бродский выглядел самым жалким и униженным — это были слишком серьезные испытания для тонко чувствующей натуры.
Говорят, первый сердечный приступ он пережил уже в 26 лет — как раз на волне очередного недорасставания с М. Б., которой посвящен сборник «Новые стансы к августе». Документально подтвержденный первый инфаркт случился с Бродским уже в США, в 1976-м, но боль в груди во время игры в футбол поэт помнил с самых юных лет. Можно сослаться на дурную наследственность: отец Александр Иванович тоже страдал от кардиологических проблем — но тем не менее дожил до 80 лет, в отличие от сына, скончавшегося в неполные 56. Боль от испытанной несправедливости и от вынужденного расставания с родиной, умноженная на два в поэтическом сознании, — причина куда более веская.
Путешествия в Инфарктику
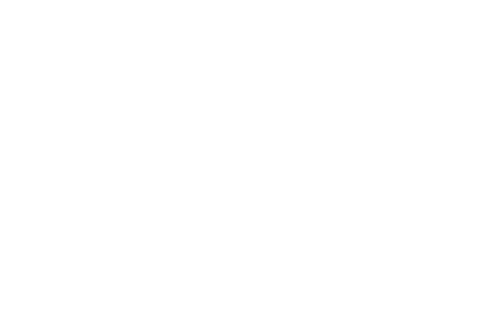
Бродский с женой Марией, урождённой Соццани
С присущей ему горькой иронией Бродский называл свои кризисные периоды «путешествиями в Инфарктику». С каждым разом выезды случались все чаще и отнимали все больше времени — а из пятой такой «командировки» поэт не вернулся. Когда его кардиолога попросили назвать один-единственный фактор, вызвавший его внезапную смерть в ночь на 28 января 1996 года, тот ответил: курение.
Бенгт Янгфельдт вспоминает, как в 1986 году впервые за долгое время встретился с Иосифом Александровичем: «Я пришел раньше условленного времени и ждал его на улице. Через несколько минут я увидел, как человек в коричневом пальто и твидовой кепке пересекает улицу. Если Бродский меня сразу узнал, то я его — нет. Передо мной стоял человек намного старше своих лет, намного старше того 38-летнего поэта, с которым я выступал восемь лет назад в Швеции». И хотя Лев Лосев, друг поэта, называет стремительное старение сразу после сорока (седина, лысина, брюшко, плохое зрение) национальной еврейской чертой, Янгфельдт считает, что в такое состояние себя привел сам Бродский и его ишемическая болезнь сердца.
Бенгт Янгфельдт вспоминает, как в 1986 году впервые за долгое время встретился с Иосифом Александровичем: «Я пришел раньше условленного времени и ждал его на улице. Через несколько минут я увидел, как человек в коричневом пальто и твидовой кепке пересекает улицу. Если Бродский меня сразу узнал, то я его — нет. Передо мной стоял человек намного старше своих лет, намного старше того 38-летнего поэта, с которым я выступал восемь лет назад в Швеции». И хотя Лев Лосев, друг поэта, называет стремительное старение сразу после сорока (седина, лысина, брюшко, плохое зрение) национальной еврейской чертой, Янгфельдт считает, что в такое состояние себя привел сам Бродский и его ишемическая болезнь сердца.
“
В последние годы жизни поэт наконец-то обрел семейное счастье: у него с Марией Соццани родилась дочь Анна, он выработал удобный график сезонных перемещений по миру
После второго инфаркта в 1985-м поэту сделали аортокоронарное шунтирование; во время операции инфаркт произошел и в третий раз. В четвертый раз это повторилось в начале 1990-х годов: в тот период Бродский фактически не выписывался из больниц и перенес балонную ангиопластику — однако сигареты и виски употреблять не прекращал. «На групповой фотографии почти двухсот нобелевских лауреатов (в связи с 90-летием премии в 1991 году) Иосифа нет; не в состоянии ждать, пока все соберутся, он вышел покурить», — с горькой улыбкой вспоминает Янгфельдт.
В последние годы жизни поэт наконец-то обрел семейное счастье: у него с Марией Соццани родилась дочь Анна, он выработал удобный график сезонных перемещений по миру, чтобы жить в разных местах в наиболее комфортное время. С января по май Бродский жил в Саут-Хедли в Массачусетсе, где преподавал в колледже Маунт-Холиок. До июня он оставался Нью-Йорке, откуда уезжал на месяц в Лондон, затем в Стокгольм — шведский климат, пожалуй, лучше любого другого подходит сердечникам. Дальше следовало путешествие по Европе, которое поэт завершался как можно позже — чтобы вернуться в Нью-Йорк после изнуряющей духоты, июльско-августовского кошмара этого мегаполиса. Новый год семья Бродским обычно встречала в Венеции — чтобы к концу января начать новый цикл.
До начала цикла 1996 года оставалось два дня, когда Иосифа Александровича не стало. У него был собран портфель с рукописями и книгами, необходимыми для лекций в Маунт-Холиок: уезжать нужно было в воскресенье, 28 января.
«Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет»,
— писал Бродский в 1965-м на смерть Элиота, заодно вспоминая этим стихотворением и Пушкина. Для всех троих непреодолимым оказался именно январь.
В последние годы жизни поэт наконец-то обрел семейное счастье: у него с Марией Соццани родилась дочь Анна, он выработал удобный график сезонных перемещений по миру, чтобы жить в разных местах в наиболее комфортное время. С января по май Бродский жил в Саут-Хедли в Массачусетсе, где преподавал в колледже Маунт-Холиок. До июня он оставался Нью-Йорке, откуда уезжал на месяц в Лондон, затем в Стокгольм — шведский климат, пожалуй, лучше любого другого подходит сердечникам. Дальше следовало путешествие по Европе, которое поэт завершался как можно позже — чтобы вернуться в Нью-Йорк после изнуряющей духоты, июльско-августовского кошмара этого мегаполиса. Новый год семья Бродским обычно встречала в Венеции — чтобы к концу января начать новый цикл.
До начала цикла 1996 года оставалось два дня, когда Иосифа Александровича не стало. У него был собран портфель с рукописями и книгами, необходимыми для лекций в Маунт-Холиок: уезжать нужно было в воскресенье, 28 января.
«Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет»,
— писал Бродский в 1965-м на смерть Элиота, заодно вспоминая этим стихотворением и Пушкина. Для всех троих непреодолимым оказался именно январь.

